|
заставлять его творить бессознательно-совершенно, и, следовательно,
почему же не сочувствовать такому совершенству духовно — по впечатлению
так же, как осязательно, по науке.
Великое знание дела и добросовестный труд известного портретного живописца В. А. Тропинина, достигли той
совершенной истины, которой перестаешь уже удивляться и которая становится, если позволено такое выражение, безыскусственной по гениальной
естественности своей. Крайнее же совершенство и окончательная отделка простирается в произведениях Тропинина не только
на главный предмет портрета — на лицо, но и на все подробности картины... Но замечательно, что при всей этой оконченности всей обстановки, ракурс Тропинина таков,
что главный предмет не перестает господствовать над картиной и вместе с тем отделяется и от рамы, не выглядывает из нее, как из отворенного окна. Головы и фигуры
его стоят на своем месте, но окруженный воздух занимает всю настоящую пустоту, глаз и мысль ее осязают. Сходство осанки, имеющей живое движение, равняется сходству
черт лица, не оставляющему желать ничего более. Высокого достоинства кисть В. А. Тропинина не оставляет в небрежении последнего аксидента
поля. Отдаленный горизонт, дерево, цветок, лежащая под рукою книга, резьба мебели, драпировка одежды, разнообразие тканей,
пушистость мехов, все преисполнено строжайшей, очаровательной верности» [10].
Картина «Гитарист»
как документ истории
Благодаря точности и вниманию к деталям,
картины Тропинина помимо естественно присущей им художественной
ценности приобретают и еще одну — ценность документа. Во всяком
случае, это бесспорно в отношении «Гитариста»,
которого всякий историк русской семиструнной
гитары, да и просто любитель, интересующийся
историей гитары в России, воспринимает и видит
именно так. Здесь и фотографически точное изображение инструмента той
эпохи, и постановка рук, положение пальцев на грифе, стопка нот на
картине 1832 года, по которым хочется угадать
исполняемое произведение, и, наконец, с большой долей вероятности,
изображение одного из самых ярких деятелей русской семиструнной гитары первой половины XIX
века Владимира Ивановича Моркова (1801–1864), русского гитариста-виртуоза, ученика знаменитого А. О. Сихры,
будущего автора Школы для семиструнной гитары и целого ряда сочинений
и переложений для этого инструмента, а также получившего широкую известность и
популярность «Исторического очерка русской оперы с самого ее начала по 1862
год» (СПб, 1862). Кроме того, как верно заметила говоря о «халатных»
портретах Тропинина Е. Ф. Петинова, он «через достоверную бытовую деталь показал характер
[10] [Е.] Василий Андреевич Тропинин // Москвитянин, 1849,
№ 5, март, Кн. 1. — С. 51–52. (Московская летопись). |
|
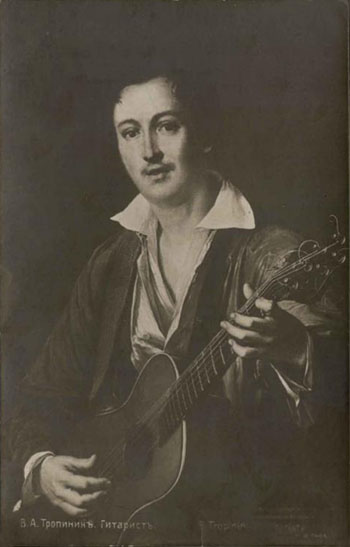
Открытка «В. А. Тропининъ. Гитаристъ»
(нач. ХХ в.) с репродукцией картины из музея
Императора Александра III (Русского музея).
московской жизни, ее размеренность,
неспешность; и вместе с тем эта деталь становится олицетворением
свободного образа мыслей тех, кого запечатлел художник» [11].
Известный российский коллекционер, основатель Химкинской картинной
галереи профессор С. Н. Горшин очень точно сказал, что «чудо живописи
заключается в том, что во многих случаях она, так же как музыка и
литература, незаменимый элемент истории».
Конечно, при этом картина Тропинина не перестает оставаться документом
художественным, творческим. Вот почему гитара, изображаемая художником,
в разных вариантах картины совсем не одна и та же. По крайней мере,
головка грифа гитары на картинах 1822-1832 имеет иную форму, чем на картинах 1839-42 гг.: на последних она выполнена в виде лиры.
Поменялся со временем и внешний вид подставки: в сравнении с первоначальным
вариантом, ее рисунок
[11] Петинова Е. Ф. Василий Андреевич Тропинин: [альбом]. — 2-е изд. — Л.: Художник РСФСР, 1990. — С. 67. |

